Глава третья
Глава третья
1
Утя сидит на окне. Окно закрыто, на окне занавеска. Утя отодвинула занавеску и смотрит во двор. На каждого, кто проходит. И тот, кто проходит, смотрит на Утю. Ее все знают во дворе. Идут и смотрят на окно, и здороваются с Утей глазами. И Утя провожает каждого глазами, пока тот не скроется. Потом Утя поворачивает голову и встречает следующего. Она тоже всех знает. Много лет она уже сидит на этом окне.
И летом сидит, когда окно открыто. Тогда дети к ней подходят. Только не близко. Утю боятся. Утя кусается.
— Это у вас собака или кошка? — спрашивают у меня дети совершенно серьезно.
— Собака, — отвечаю я им. — Разве вы не видите — собака.
Как-то к нам в квартиру зашла странная женщина. Она искала нашу соседку, но почему-то сняла в коридоре туфли и вдруг начала кричать. Мы не знали, что нам делать, а Утя знала. Утя, которая в жизни никогда в квартире не гадила, налила ей полную туфлю. И что же: женщина кричать перестала и еще стала извиняться.
Так не имела ли я права сказать, что Утя — собака? Конечно же, она собака, если она кусается и оберегает дом от «чужих».
А еще Утя умеет драться с собаками. Но это когда у нее котята. Тогда ей не страшен никто.
Это было на даче. Открылась калитка, и в сад забежал огромный пес. Утя бросилась на него и вцепилась ему в живот. А потом мы собирали собачью шерсть с дорожки и со страхом поглядывали на Утю.
Утя умела защищать и себя, и котят, и нас. И вообще была мудрой. Смотрит она, и иногда кажется — все она знает больше нас. Только молчит, и не потому молчит, что не может говорить, а так — от мудрости.
И гостей Утя умела принять. Каких, думаете, гостей? Нет, своих собственных. Когда дома никого нет, а форточка открыта, к Уте в гости приходит кот. Пушистый такой, серый — муж, видно. И сидит Утя с ним на диване.
Спокойно так, солидно. В своем доме, на своем диване почему и не посидеть с мужем?
И не слышит Утя, как мы подходим. Ничего при муже не слышит. Вот так мы с ним и познакомились. Только он сразу — в форточку. И Утя за ним.
2
Теперь я все знаю про Утиных котят. Их было уже много. Они появляются через каждые четыре месяца. По пять. Иногда по четыре. И только один раз было двое. И в тот единственный раз не было пушистого. А так всегда — один пушистый. Да как и не быть пушистому, если муж Ути — сибирский кот.
Котята слепые. Тычутся в мамин живот. Один другого отталкивает. Дерутся. Маленькие такие, а уже дерутся. А потом расползаются и не могут найти Утю. И орут, и пищат. А Утя лежит, слышит писк и не двигается. Не хочет Утя лишать молока остальных котят, которые так хорошо пристроились.
Я подхожу, беру котенка и кладу к ней. «Мурлы» — Утя благодарна. Ну сколько можно облизывать котят? А бесконечно. Одного вылизала, начала другого, потом третьего, до последнего дошла — и сначала.
Дольше всех Утя вылизывает пушистого, потому что шерсть у него длинная. И получается неравенство: от Ути пушистому больше внимания и от нас больше, потому что гладить его приятнее. И в руках держать шарик пушистый, у которого глаза выглядывают из шерсти, как бусинки, тоже приятнее. Да и котятам с ним играть приятнее. Они ведь тоже понимают, что такое шелковая длинная шерсть.
Вот так и получается всеобщий любимец, который уже и не боится никого. Не убегает, не пищит, как другие котята, когда его берут на руки, не дичится, а мурлычет, словно вы тоже его мама. И все только оттого, что шерсть у него длинная.
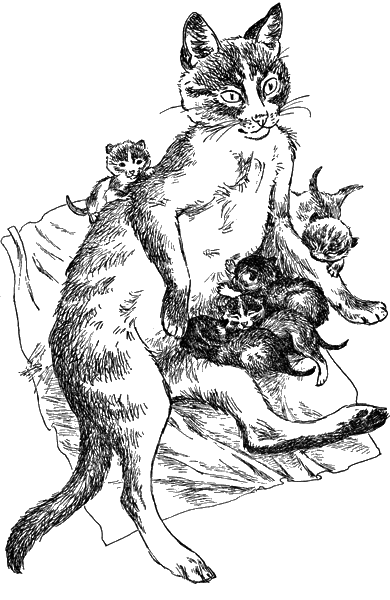
Когда Утя была моложе, она играла с котятами, бегала с ними по квартире, дралась, делая вид, что бьет их лапой со всей силой и сейчас откусит им голову.
Но теперь она уже не играет. Котята сидят у нее на голове, ходят по ее животу, а она спит. Котята не дают спать и прыгают через ее шею. Словно это не шея ее, а турник. Скок туда, скок обратно. Утя терпит. Но сколько можно издеваться над матерью? Уже не молодой, уже воспитавшей больше полусотни детей! И Утя начинает раздраженно двигать хвостом. Но этого котята только и ждут. Они следят за хвостом. И — раз на хвост! Один прыгнул, другой, третий. А хвост крутится, извивается, не дается, и вдруг Утя вскакивает — и лапой… Все разбегаются. Утя ложится. И все начинается сначала: котята прыгают по Уте, а она пытается спать.
И всегда, в одном и том же возрасте котята замечают свою тень. Достаточно один раз заметить, и уже невозможно становится жить. Потому что ты бежишь, и рядом тень твоя бежит. А раз рядом кто-то бежит, разве можно бежать спокойно? На тень надо наступить. Ее надо ухватить лапкой и вообще что-то с ней делать. Но она не поддается. Ее не ухватишь, не ощутишь. А она есть, и избавиться от нее невозможно. День, два, три котята бегают за своей тенью. И вдруг они перестают обращать на нее внимание. Словно никогда ее и не замечали.
А от звуков радио котята разбегаются. Утя же радио словно и не слышит. Словно никто и не говорит в комнате и музыка не звучит. Утя на радио даже ухом не поведет.
И так я к этому привыкла, что, признаться, считала, что Утя радио не слышит. Хотя как это может быть? А вот так я думала. Но как-то однажды по радио заиграли пронизанную тоской музыку. И вдруг Утя подняла голову и стала слушать.
3
Надо иметь опыт. Теперь он у меня уже есть. Опыт по раздаче котят. Берется косынка, лучше всего голубая. В нее заворачивается котенок, так, чтобы видны были только глаза да нос. Можно еще, чтобы и уши торчали. И лучше всего идти к метро. Здесь много народу, люди входят и выходят.
«Вам не нужен котенок?»
Я все знаю заранее. Все ответы. Например, такой: «Ах какой миленький, какой хорошенький! (Кажется, сейчас возьмут. Но нет, куда там!) У меня соседи. А то бы обязательно…»
Ох эти соседи! О соседях я уже знаю все. И как они не любят запаха, и как они отравили кошку, и вообще — не любят животных.
Кажется, если бы не соседи, то все проходящие встали бы в очередь за моим котенком. Но где же эти соседи? Ведь они тоже должны проходить. Они же тоже едут в метро. «Возьмите котенка». Это мой неуверенный голос.
«На что мне такая гадость!» И промелькнуло злобное лицо. И я понимаю: вот он — сосед.
Но раздражают меня, как ни странно, больше другие. Встанут, гладят котенка и уговаривают: «Вы его только не выбрасывайте. Ах какой бедненький, только не выбрасывайте!»
Это меня-то еще уговаривают, чтобы я не выбрасывала!
Я замерзла. И котенок тоже замерз. Я держу его за пазухой, и он пищит, вырывается. И уже кажется, что никогда, никогда этому не будет конца. И вот тут, да, именно в этот момент, когда кажется, что никогда и никто котенка не возьмет, кто-нибудь подходит и просто, без всяких причитаний, берет котенка.
И я иду за следующим. Тут же. Потому что точно знаю: сейчас возьмут всех. Я выношу сразу еще двоих или даже троих. И обязательно на моем пути появляется либо ребенок с мамой, которые только и мечтали о котенке, либо девочка лет четырнадцати, которая понесет котенка домой, может быть впервые утверждая свою самостоятельность. Либо молодые люди, которые унесут котят — в подарок.
И вот котят уже нет. И остался Уте только пушистый.
Так я раздала восемьдесят девять котят.
4
Было уже поздно. Утя лежала у меня в комнате под секретером. У нее не было котят, но и без котят Утя любила менять место. Редко она выбирала мою комнату. А когда выбирала, чаще всего ложилась на секретер и обычно на бумаги, чтобы нельзя было писать. Иногда она посапывала на диване. А тут вдруг под секретером. Ее можно было и не заметить и лечь спать. Видно, на это она и рассчитывала.
— Утя!
Утя не шевелится.
— Утя, я хочу спать, уходи.
Никакого впечатления. Ухо Утино только вздрогнуло, и все.
— Утя! Неужели ты не понимаешь!
Нет, она не понимает. Ничего не понимает.
Еще бы! Зачем ей меня понимать! Вот когда ей надо, чтобы я гладила ее живот, тогда она меня понимает… Тогда она все понимает.
Я беру палку. Ну конечно, не для того, чтобы бить Утю. И даже не для того, чтобы ее пугать. А просто, чтобы до нее дотронуться. Я дотрагиваюсь палкой до Ути, и она шипит. Что вы, она ничуть не боится палки. Она даже не знает, что это такое — палка. Она на нее просто шипит. Я стараюсь палкой сдвинуть Утю с места. Я понимаю: Утя заспалась и ее надо разбудить. Утя перемещается с одного места на другое, но из-под секретера не уходит. Тогда я набрасываю на руки плед и беру Утю.
Утя изворачивается — и цап меня по руке! Цапнула, встала и ушла.
Что же это такое, Утя! Нет, это неспроста. На следующий вечер Утя снова под секретером, в том же месте. Да что это оно тебе так понравилось? Я не в силах повторить вчерашнюю сцену. «Утя, — говорю я, — опять будем драться?» И не Уте я это говорю, а себе. Но Утя сразу же поднимает голову, встает и идет к дверям. Она еле идет. Сонная идет. Видно, и ей неприятно вчерашнее.
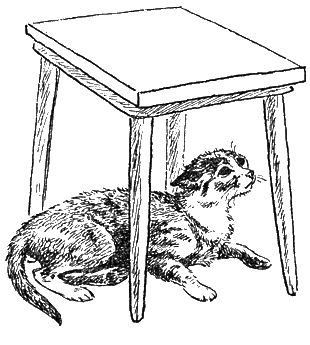
А на следующий день Утя перестает есть. Совсем ничего не ест и не лежит больше у меня в комнате. А лежит в ванной под табуреткой. Что за странное место? Никогда она здесь не лежала. Обычно она спала с мамой на диване. Иногда в ногах у нее, а иногда, как и мама, положив голову на подушку. Еще Утя спала в кресле, на стуле, иногда на холодильнике. Но в ванной, под табуреткой, — никогда. И я понимаю, что Утя заболела.
5
Две двери вели в два врачебных кабинета. И от того, какую дверь я выберу, зависела Утина судьба. Я тогда не точно это понимала. И все-таки чувствовала, что это именно так. А как решить, какая дверь? Та, которая раньше откроется? Та, в которую раньше позовут? Но ведь можно сказать: «Нет, мы не сюда, мы в другую дверь».
Но как знать, за какой дверью лучше, за какую надо стремиться.
В одну я заглянула. Там сидел пожилой человек и писал.
— Подождите в коридоре, — не очень любезно сказал он. За другой, напротив, была милая женщина. Полная и добродушная.
— Сейчас, сейчас, — сказала она мне приветливо.
Я сидела на скамейке рядом с мамой и думала. Почему я так боюсь? Что это напало на меня? Идти надо к первому, кто позовет, кто свободен. А если бы не было выбора? Значит, все оттого, что есть выбор?
Нет, все совсем от другого.
Утя сидит в сумке с «молнией», и ее никто не видит. И это хорошо, что ее никто не видит. Нет, я не стесняюсь показывать Утю. Но здесь, рядом с лохматыми японскими собачками, рядом с сибирскими кошками, рядом с говорящими птицами, я как-то оробела.
Каждый вновь пришедший гордо обводит всех глазами. Каждый приносит с собой зверя еще более удивительного и еще более красивого, чем те, которые уже здесь сидят и ждут своей очереди.
И каждый оглядывает нашу сумку с любопытством. А что же там? «Кошка», — отвечаю я сухо.
«Молнию» нельзя открыть, потому что Утя вырвется, начнет царапаться, и я с ней не справлюсь. Но здесь я могу не открывать «молнии», а там, за дверью… Там, за дверью, мне придется наконец показать Утю — простую кошку. Да, простую, совершенно простую. Потому что для всех остальных здесь она только простая кошка.
Ну и что, разве простых кошек не так будут лечить, как вот этих? Какая врачам-то разница, простая у нас кошка или нет?
Но я чего-то жду. Впрочем, здесь все ждут. Ждут Николая Николаевича, который на операции. Все ждут Николая Николаевича, хотя и знают, что после операции Николай Николаевич принимать не будет. Но может быть, он даст совет? Или скажет, когда к нему прийти в другой раз? Операция неожиданная и очень длительная.
Мы тоже пришли к Николаю Николаевичу. Он был у нас дома два дня назад. Но, взглянув на Утю и увидев, как она шипит, сказал: «Принесите в поликлинику. Там ее посмотрят. А здесь нельзя. Она ведь у вас дикая». Ждать Николая Николаевича или идти к сердитому старику, или к женщине?
— Идем, — наконец говорю я маме, и мы заходим к женщине.
Я расстегиваю «молнию», и Утя встряхивает головой. Я объясняю, что Утя уже несколько дней не ест, не пьет и не выходит. А лежит неподвижно под табуреткой.
Врач хочет дотронуться до Ути, но Утя шипит.
— Ну что ты, что ты, — ласково говорит ей врач, осторожно дотрагивается до Утиного бока, и мы видим на Утином боку рану. — Она избита, — говорит врач, — она у вас бывает на улице?
Так вот оно в чем дело — Утю избили. Но мы не успеваем осознать этого, как вдруг в кабинет входит санитар с огромной собакой и нас просят подождать в коридоре, пока собаке сделают укол.
Мы выходим. Нам уже легче. Никто не удивился, что Утя простая. И вроде бы уже ясно, что с ней.
Но тут открывается другая дверь. И пожилой врач спрашивает:
— Вы, кажется, хотели ко мне? Заходите.
Нам неудобно. Нам неудобно сказать, что мы уже ждем другого врача, и мы входим.
И снова мы открываем «молнию», и Утя выпрыгивает как бешеная.
— Она у нас необыкновенная… — начинает мама.
— Вижу, вижу.
— У нее рана, ее, наверное, избили.
— Вижу, вижу.
И мы молчим. А доктор пытается справиться с нашей Утей.
— Вы ее не можете подержать? Вас эта «необыкновенная» кошка, вероятно, не укусит?
Что ему сказать? Что укусит. И нас укусит. Потому что ей, видимо, очень больно, и сидела она долго в сумке, и обстановка чужая, да и вообще она кусается…
Нет, этого всего здесь ему говорить нельзя, и я держу Утю. Но Утя вырывается и начинает бегать по комнате.
— Да что это за животное такое!
Тут открывается дверь, и входит Николай Николаевич и еще три врача. Шумные, усталые. Они больше никого не будут сегодня смотреть, они четыре часа провели в операционной.
Но Утя бегает по комнате, и мы бегаем за ней. И вдруг все начинают бегать: и старый врач, и Николай Николаевич, и еще три врача.
Поймали.
И вот пять врачей склонились над моей Утей. Пять врачей! Трое держат, а Николай Николаевич и старый врач щупают ей живот.
— Вы со мной не согласны? — говорит Николай Николаевич старому врачу. — Да вы тут, тут пощупайте.
Старый врач молчит.
— Рак у нее, — говорит Николай Николаевич.
Утю отпустили. Теперь она уже не бежит. Никуда не бежит. Словно поняла, что смотреть ее больше не будут.
— Так, может, операцию? — говорит моя мама.
— Кому?.. Ей?! — Николай Николаевич снимает перчатки. — Мой совет — усыпите…
6
Мы не усыпили Утю.
Мы принесли ее домой, и она снова легла в ванной под табуреткой.
Мы не верили, что у нее рак. Не верили так, как не верят, когда не хотят, не могут себе представить, что близкое тебе существо должно умереть. И ничего, ничего нельзя сделать. И остается только одно — не верить. И мы не верили.
Один из Утиных котят умер от копростаза. Это болезнь кишечника. Тогда мы лечили котенка вазелиновым маслом. Но он был очень маленький, и нам сказали, что он выживет, если сумеет справиться с болезнью. Он не справился и умер. Но Утя большая. И мы стали на всякий случай поить Утю вазелиновым маслом.
Утя лежала под табуреткой ослабевшая и тяжело дышала. Подбородок и шея у нее были в вазелиновом масле, и она не смывала его. Утя не мылась, а раз Утя не мылась, это значило, что у нее уже нет никаких сил, потому что больше всего на свете Утя любила мыться.
В ванной душно. Но Утя не идет ко мне в комнату. Я сама ее выгнала оттуда. Да еще палкой. Но ведь я не знала…
А теперь Утя лежит в ванной и уже ничего не хочет.
Утя умерла, когда меня не было дома.
Папа отнес ее в больницу на вскрытие. Гнойный плеврит — вот был Утин диагноз. Значит, не было у нее никакого рака. Значит, можно было ее лечить.
Но как же мы не догадались: ведь она так тяжело дышала. И была вся избита. Наверное, ей отбили легкие. Поймали и избили. От этого тоже может начаться плеврит.
И вспомнила я две двери, перед которыми сидела и думала, что в эту секунду от меня зависит судьба Ути. Простой кошки, не привыкшей к чужим рукам.
Николай Николаевич устал, был раздражен, а тут еще эта тощая некрасивая кошка, из-за которой столько шума, а она еще царапается и кусается, и за ней еще надо лазить под столами.
Мы не поняли Утю. В решающий момент не поняли.
Она не жаловалась, не мяукала. Не показывала, где у нее болит, как показывала, когда заставляла гладить ее по животу. Напротив, она кусала и злила врачей. Мы воспитали в ней гордость, независимость, уверенность. И мы должны были за нее все решить правильно. Обязаны были все понять. Но мы не поняли.
С тех пор как умерла Утя, прошло три года. И каждый день под наше окно приходит Утин муж и зовет ее. Жалобно, с надрывом. А когда мы выходим, он бежит к нам и трется у наших ног.
И нам кажется, что он знает о нас все. Знает от Ути.
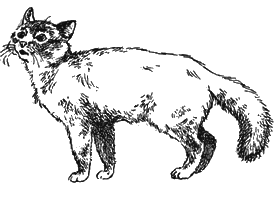
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Глава третья
Глава третья 1Утя сидит на окне. Окно закрыто, на окне занавеска. Утя отодвинула занавеску и смотрит во двор. На каждого, кто проходит. И тот, кто проходит, смотрит на Утю. Ее все знают во дворе. Идут и смотрят на окно, и здороваются с Утей глазами. И Утя провожает каждого
Глава третья
Глава третья Воздух после ночной грозы был свежим и прозрачным, а улицы Виста-Вэлли, умытые дождем, просто сияли чистотой. Над маленьким тихим городком разгоралось ясное летнее утро. Виста-Вэлли медленно просыпался от сна. С восходом солнца в городском сквере показались
Глава третья
Глава третья У Райс мысли были заняты совсем другим.Хотя было еще только ранее утро, канал сплетен и слухов между Райс и ее подружками уже работал вовсю.Когда Бетховен вошел в ее комнату с мячиком в зубах, Райс говорила по телефону и выглядела совершенно потрясенной тем,
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Глава третья
Глава третья Даже самые плюгавые малявки……которые вообще от горшка два вершка, оказывались в центре внимания, когда выводили гулять своих мопсиков и таксиков. И Вовка легко рисовал в своем развитом воображении привлекательную картину: он наденет мохнатый свитер, шапку
Глава третья
Глава третья По осени еще, в ноябре, волк и волчица залегли на дневку в густых бурьянах, на дне пересохшего расходившегося широким руслом к озеру оврага. Обвалившийся из-за бугра с неба рев и грохот заставил зверей взметнуться и броситься в разные стороны.На беду в
Глава третья
Глава третья В августе это случилось. Сидел в гараже с шоферами, в домино козла забивал. Телефон зазвонил. Кто-то из мужиков трубку взял и Веньке:— Езжай скорее домой, собака сына искусала.Венька в УАЗ и по газам. Забежал, Вовка орет дурным голосом. Вся мордашка кровью
Глава третья
Глава третья – Ты снова его видела? – нетерпеливо спросила Лили, и Эми улыбнулась.– Вчера, когда выходила в сад. Он сидел в конце сада на заборе, прямо под домиком на дереве. Но когда я подошла ближе, он убежал.– Получается, ты видела его несколько раз. Может быть, он живёт
Глава третья
Глава третья – Интересно, как дела дома? – взволнованно заговорила Эмили, когда они надевали пальто перед тем, как выйти из школы. – Сегодня нас забирает мама – надо будет всё у неё узнать. Белянка все выходные была ужасно пугливая и вела себя очень необычно, а утром
Глава третья
Глава третья Тем вечером мама Эллы пожалела, что взяла девочку с собой на ферму Розбридж. Остаток дня Элла не замолкая говорила о Пушинке, и, когда её папа вернулся с работы домой, она даже не дала ему снять пальто.– Папа, тебе нужно поговорить с мамой! Ведь ты же сказал, что
Глава третья
Глава третья Теперь Гарри ждал визитов Грейс. Она часто приходила после школы, поэтому примерно в полчетвертого он уже стоял около двери своей клетки, иногда встав на задние лапы и уцепившись передними за проволоку, и высматривал девочку.Через две недели после знакомства
Глава третья
Глава третья – Папа, у Пирата почти закончилась еда. Остался только лосось, но не думаю, что он вызовет у котёнка интерес.Пират уютно свернулся калачиком на коленях Скарлетт. Он отлично знал, что содержится в консервных банках, и был совсем не прочь ещё раз
Глава третья
Глава третья Кошечка отчаянно взвыла. Ей очень не нравилось, что её закрыли в сумке-переноске. Тут было тесно и пахло чем-то чужим. Когда её уже выпустят?Раздался щелчок, и дверца распахнулась. На кошечку смотрела девочка. Та самая, что гладила её ещё там, дома. Кошечка