Тагам! Поехали!
Тагам! Поехали!

Выстрел! Другой! Третий!
Стреляют часто. Это — обычай северных проводов.
Едва рванулась передовая упряжка, как завыли собаки других нарт. И вот вперед по белому простору берега мчится весь наш караван.
Солнца не видно, можно только с вершины сопки, сверкающей розовыми солнечными бликами, разглядеть, так низко над горизонтом чертит свой короткий путь желтый шар, на который теперь можно смотреть невооруженным глазом.
Начало ноября. Близка полярная ночь.
У берега Чаунской губы, где сутулится единственный домик, принадлежащий фактории Певек, и дымят кострами несколько чукотских яранг, в ледяных торосах по-прежнему стоят зимующие пароходы.
Моряки выстрелами прощаются с уезжающими. Я вижу коренастого крепыша — штурмана Козловского. Он неистово машет шапкой-ушанкой. В правой руке у него дымящийся наган. Матрос Конев стреляет из винтовки…
Впереди — неведомый путь к Колыме через Восточную каменную тундру, через горы, еще не нанесенные на карты, через безвестные реки, по безбрежному снежному океану.
Тысячи километров надо пройти на собаках и оленях до железной дороги. Наш путь начинается у подножья Чаунских гор. А Москва так далеко…
Я еду вместе с Атыком на одной нарте, длинных легких деревянных санях, хитро скрепленных ремнями. Атык сидит впереди меня, он держится за дугу. Эта дуга — не только дополнительное крепление, но и своеобразный руль каюра. На полном ходу, заметив впереди опасность — камень, выбоину, плавник, он быстро соскакивает на снег, схватившись за дугу, отдергивает нарту в сторону.
Атык имеет еще и второе имя — Атыкай, так его зовут чукчи. Атыкай значит по-чукотски собачка. А собака — это первый помощник в хозяйстве берегового чукчи. Собака возит его ярангу и скарб, она приводит его к зверю, разыскивает лунку, через которую нерпа выходит из моря, чтобы подышать в полярную ночь. И при всем этом собака почти не требует от человека ухода. Она спит всю жизнь за ярангой в снегу. Чукча кормит своих ездовых раз в день, по вечерам. Кусок нерпы и сушеная рыба — юкола — сытный стол четвероногих. Так же как и человек, собака питается в тундре олениной. Когда закончится короткий собачий век, чукча-хозяин сдерет с нее мохнатую шкуру и теплым мехом опушит свой малахай или кухлянку. Из собачины шьют и рукавицы; зовут их «собаками».
Атыку лет сорок пять, а может быть, и пятьдесят. У него густая и длинная черная шевелюра. Косичка неседеющих волос постоянно выбивается из-под малахая, сшитого из выпоротка-оленя. Капор обшит пушистым мехом росомахи. Под малахаем у Атыка двойная кухлянка, белая с черными подпалинами. Волчий серебристый воротник закрывает бронзовую шею Атыка, дубленую солнцем и ветрами, изрытую сетью морщин. Сильные ноги каюра обуты в белые плекеты, поверх которых выпущены еще более ярко-белые штаны — конайты — из каму са — лапок оленей. Штаны закреплены ременными повязками у щиколотки, поверх обуви, что предохраняет от проникновения снега. Поверх тюка с грузом болтается волчья шапка Атыка. Он держит ее про запас и надевает только во время сильной пурги.
И на малахае, и на кухлянке у Атыка пришиты кусочки меха. Позднее я узнал их назначение. Чукчи в те годы еще верили в духов, населяющих тундру, горы, берег, море. Есть злые духи, они могут нанести чукче вред. Во время пурги погонится такой дух за каюром, настигнет его, схватит за малахай или кухлянку…, но каюр благополучно умчится от напасти, оставив в руках у духа только хвостик, нашитый на одежду для безопасности.

Собачья упряжка береговых (приморских) чукчей. Наверху чукча готовится к отъезду. Слева — склад, укрытый звериными шкурами
(По рисунку чукотского костереза)
Я спрашиваю Атыка об этих меховых хвостиках. Атык беззвучно смеется, его быстрые умные глаза искрятся. Обычай предков сильнее его сознания и, отправляясь в дальний трудный путь, он не решился изменять вековой традиции.
Атык курит медную трубку. Она согревает кончик носа; трубка выкурена, Атык выбивает ее о дугу нарты и бережно прячет в кисет. Кисет на груди Атыка, под кухлянкой. Потерять кисет и трубку в тундре так же тяжело, как лишиться ездовой собаки. И Атык бережет и кисет и собак больше, чем самого себя. Он часто соскакивает с нарт, чтобы собакам стало легче. И собаки, чувствуя это, бегут веселей. Атыку жарко в кухлянке. Он снимает ее на бегу и остается в кукашке — меховой рубахе. Он бежит за нартами по нескольку километров, потом, устав, с разбегу садится и заводит разговор с собаками.
— Тэдди, Тэдди, Тэдди! Угу-у-у! — окрикает Атык большого черного пса, вдруг ослабившего алык[4]. Черный Тэдди не работает, не тянет нарты. Почуяв, что его проделка разоблачена, он боязливо оглядывается на каюра, пригибая к земле голову.
— У-гу! У-гу! — стращает каюр собаку.
Тэдди плохо слушается, и тогда в руке Атыка появляется грозный остол[5].
Остол выкрашен у Атыка в алый, хорошо заметный на снегу, цвет. На одном конце шеста железное острие, на другом — несколько колец. Атык ударяет остолом о дугу нарты, и кольца тревожно звенят. Собаки оглядываются, они отлично знают этот дребезжащий, предостерегающий звук. Сейчас будет расплата. Сейчас Атык бросит остол в провинившуюся собаку, в ту самую, которая вяло тянет алык и обманывает других. Атык не ошибется: из двенадцати рядом бегущих собак он отметит остолом именно ту, которая провинилась перед всей упряжкой. Побитая собака коротко взвизгнет и теперь наверняка туго натянет алык.
Атык не задержит бега упряжки, не остановит нарты, чтобы поднять остол, зарывшийся в снег. Атык успеет выхватить остол из-под самой нарты на полном ходу. Никогда не было, чтобы выронил он остол из своих цепких рук.
Я начинаю зябнуть и по совету Атыка бегу за нартами. Бег согревает. Живительное тепло растекается по застывшим ногам и рукам. Забываю о холоде, только дышится чаще и шумно стучит сердце.
Мы снова с Атыком на нартах.
— Мата-а-а-ууу! — ласково, напевно тянет каюр.
— Мата-а-а-ууу!
— Мультик! Мультик! Мультик!
Это он подбадривает собак, называя их по именам, будто разговаривая с ними.
Снежинки падают на мою камлейку, а ветер сметает их целыми пригоршнями. Становится холоднее. Атык вновь надел кухлянку. Красиво сидит она на нем.
Жена Атыка — лучшая рукодельница Певека. Лучше ее никто не умеет шить меховую одежду. Она сама оторачивала пыжиковую шапку и кухлянку мужа, шила ему конайты и плекеты.
Самым красивым Атык считает мех росомахи. Он мечтает вслух:
— Атык поехал Колыма! Атык возьми Колыма собак! Атык возьми нарты! Атык возьми росомаху и капкан!
В Нижне-Колымске Атык хочет купить новых собак, новые нарты, росомаху и капканы.
— Мури Певек меченьки неушка… парнишка…
Атык говорит, что у него в Певеке остались хорошая жена и хороший сын. Это для них Атык привезет с Колымы росомаший мех, чтобы оторочить одежду. Атык каждый день твердит мне об этом редком для него — жителя тундры — звере.
За грядкой нарты звонко постукивают в мешке пельмени. Я смотрю вперед — на широкие плечи Атыка, его белую спину. В белизне северной одежды есть какая-то праздничная торжественность. Недаром чукчи почитают белый мех, надевают его в особых случаях.
Каюр постоянно в движении, постоянно следит не только за собаками, за нартами, но и за мной, сидящим позади. Я должен сидеть, свесив ноги слева, каюр — справа по ходу нарты; тогда нарты уравновешены и устойчивы. Иначе они станут валкими, замучат и собак и каюра. Когда нарты клонятся влево, Атык валится всем телом круто вправо или соскакивает с нарт и отдергивает их за дугу на ровный снег. Он бежит вперевалку по-чукотски, легко вытаскивая свои сильные ноги из глубокого сыпучего снега.
Ветер невидимой метлой метет по тундре, срывает с нее снежную осыпь, зимний покров земли.
Сначала снег струится бесшумно, потом начинает звенеть стеклянным звоном. Эти струйки снега, бегущие по тундре, напоминают шумливые горные ручейки. Вот они набрали силу и с ревом устремились на нас. Снег по всей тундре, которую только видит глаз, бежит навстречу нартам.
Вскоре в снежном потоке я перестаю различать идущую впереди нарту. Каюры выводят собак за высокий мыс, горушка защищает нас от снежного шквала. Здесь пережидаем пургу.
— Это еще не пурга! Это — полпурги! — утешает нас Иван Мальков, каюр соседней нарты.
Каюры долго и оживленно переговариваются. Затем ставим палатку. Привязываем ее к тяжелым грузовым нартам, чтобы не сорвало шквалистым ветром.
В пурге не раскопать плавника. Поэтому спим в нетопленной палатке, в спальных мешках — кукулях. Собаки свернулись клубками возле нарт. Их заметает снегом, только морды чернеют из сугроба.
Всю ночь ревет, не унимаясь, ветер, метет снег по тундре. Утром пурга затихла. Едва заметно ее прерывистое усталое дыхание. Ветер чуть пошевеливает снег. Каюры расталкивают сонных собак, и те лениво поднимаются, отряхиваются от снега и начинают выть, вначале в одиночку, а потом всем скопом, в восемьдесят глоток.
Атык не знает ни дней, ни лет, ни часов, ни расстояния. Родился он в месяц сбрасывания оленьих рогов — в августе. Родился в тот год, когда тушу большого кита выбросило на чукотский берег и в стойбище было большое пиршество. Расстояния он измеряет по-колымски: качеством собак. Чем лучше собаки, тем короче расстояние, меньше требуется времени, чтобы доехать до цели. Чем хуже собаки, тем длиннее версты и больше нужно времени на поездку. Вот почему на Колыме «длинные» и «короткие» версты.
Когда позволяет погода, я достаю блокнот и вношу в него торопливые карандашные записи. Атык с тревожным любопытством приглядывает за мной. Ему не нравится мое занятие. При малом запасе чукотских слов я вначале никак не мог объяснить каюру мои, непонятные для него, записи. С самого начала пути он приветливо звал меня «Тынлилят» (стеклянные глаза). Это за то, что я в очках. Но потом приветливость его стала заметно исчезать. Мои расспросы плохо действовали на каюра. Я расспрашивал, как живется ему, сколько у него одежды, собак, какая утварь, есть ли олени в тундре? Атык, видимо, понял это как опись его домашнего имущества и заподозрил недоброе.
— Зачем бумагу пишешь? — наконец, сердито спросил меня Атык, косясь на блокнот.
— Книгу пишу, большую бумагу, Атык! — ответил я. — В Москве все смогут прочесть об Атыке, узнать, какой он большой человек.
Атык слыхал от Рольтынвата, что такое книга. На мысу, где стояла яранга старого каюра и откуда мы ушли в долгий путь, друг Атыка и наш юный спутник, комсомолец, каюр хвостовой нарты Рольтынват учился грамоте у советского учителя-комсомольца. Природная сметка помогла Атыку понять, что такое книга и какова ее огромная сила. Он сказал мне, что чукчи пока книг не пишут, но знают множество рассказов и сказок, которые надо написать в «большой бумаге».
— Товарищ Сталин нас научит, будут чукчи и книги писать, — сказал комсомолец Рольтынват, узнав о нашем разговоре.
С помощью Рольтынвата я дотолковался, наконец, с Атыком. И тогда я решил посоветоваться с ним о названии своей будущей работы. Я сказал ему, что каждая книга, — как и человек, собака, селение, гора, река или море, — должна иметь свое имя. Как назвать мне труд, в котором будет описан наш путь по зимней тундре?
Атык подумал, блеснул черными, как угольки, глазами и крикнул призывно — воинственно:
— Тагам!
Тагам! Вперед! Поехали!
Я повторил за каюром найденное им слово, так подходившее к тому, что я увидел на Севере, идя с кораблями к устью Колымы. Вся тундра и люди, работавшие на краю света в те памятные годы первой сталинской пятилетки, устремились в едином порыве вперед — к новой жизни, к социализму.
…Снова в путь. Отдохнувшие собаки тянут хорошо, несмотря на податливый снег. Кругом свежие отпечатки звериных лап. Немногими русскими словами, каюр рассказывает мне о том, кто бежал здесь недавно по снегу.
— Заяц! Заяц! — повторяет Атык.
И чтобы я лучше понял его, он поднимает руку, выставив вверх два пальца и сложив большой с указательным так же, как делают дети, когда хотят изобразить на стене тень зайца.
Вот на снегу пунктир. Атык кричит собакам:
— Подь-подь!
Собаки по команде резко берут вправо и несутся туда, где глазастый Атык увидел след лемминга — мелкого грызуна. Передовой Эспикр ударил его лапой и проглотил в одно мгновение.
— Кухх-кухх! — гонит каюр собак влево, возвращая их на дорогу, проложенную передними нартами.
— Собака кушать хорошо! Хорошо! — и он показывает мне руками, что собаки любят есть грызунов. Вот почему Атык свернул с дороги. Он позабавил своего передового, любимца Эспикра.
— Эспикр собака хорошо! — говорит Атык.
Перед нами горы. Что скрывают они в своих неразведанных недрах? Однажды уже прошел здесь самолет геолога Сергея Обручева. Он первый облетел Чукотские горы, привлек авиацию для съемки и геологических работ, раскрыл многие тайны здешних мест, да и не только здешних. Ведь это Сергей Обручев открыл хребет Черского, высокий горный кряж, до того отсутствовавший на картах мира…
Чукча Тено показал как-то Василию Косину камень, найденный на горе Проркана, против бухты Нольде. Говорят, что в горах много таких камней. Женщины хотели сделать из него нож для обдирки оленьих шкур. Но когда разбили камень, то внутри его оказался неизвестный металл.
Мне вспомнился рассказ Косина о первой его поездке в глубину Чаунской тундры. Ехал он в январе, в полярную ночь. В небольшое стойбище Умыгина собрались делегаты для выборов первого «тузсовета» (туземный совет). Неожиданно Косин узнал, что по тундре ходит слух, будто из Анадыря идут японцы убивать русских. Косин спросил Умыгина — хозяина стойбища: кто пустил этот провокационный слух? Умыгин помолчал, подумал, а потом вдруг ответил, что слух пустили кулак Омруля и шаман Кокак.
— Они говорят, — признался Умыгин, — что у русских ум совсем другой, чем у нас. Русские думают по-своему: бедных начальниками делают, а у бедного ничего нет! Какой же он начальник, когда у богатого всю жизнь работает?
Косин остался организовывать Совет. Богатые оленеводы стояли за то, чтобы в Совет проводить только богатых. Затем они внесли новое предложение: «Пусть двух бедных да одного богатого, — тогда будет как раз». Но богатых в Совет не ввели. Избрали бедных.
…Ветер за ночь испортил снежную дорогу, и собаки едва бредут. Путь наш лежит на юго-запад.
Каюры часто покрикивают на собак. Те бредут по брюхо в снегу, подняв высоко кольцеобразные хвосты и туго натягивая алыки и потяги. Кажется, если ударить по потягу, он зазвенит, как струна. И все же нарты очень медленно ползут по непроторенной дороге.
Как велик наш Советский Союз! Сейчас повсюду на советской земле готовятся к 15-й Октябрьской годовщине. В городах и селах улицы украшаются флагами, лозунгами, портретами товарища Сталина и его ближайших соратников. Над Москвой, наверное, тренируются летчики — участники авиационного праздника Седьмого ноября.
Большой праздник впервые будет и в Чаунской губе. Оленные чукчи едут сейчас к месту зимовки пароходов. Там будет неслыханное торжество. Моряки готовят доклады, большое шествие со знаменами и фейерверк…
Хорошо было бы и нам скорее добраться до устья реки Чаун, где стоит одинокая фактория! Там мы могли бы обогреться, отдохнуть и провести великий праздник в доме, не под открытым небом.
Незаметными точками кажутся наши нарты, движущиеся по безлюдной чаунской тундре. Мы затерялись в ее просторах. Каюры часто останавливаются и перекликаются. Они выверяют направление. Самый надежный совет дает всегда Атык. Его внимательно слушают. Он махнет рукой — и, как по компасу, вновь идут вперед нарты — корабли тундры.
За нашей нартой едет Рольтынват. С тех пор как он узнал, что я собираюсь писать книгу, дружба наша возросла. На первой же дневке он подошел ко мне и сказал:
— Пиши! Мы учим в Певеке большую книгу о Ленине. Учитель учит нас. Чукчи знают — Ленин был сильный богатырь. Враги стреляли в него, а он стоял, как скала, вынимал пули и бросал их на землю…
Так, по-своему, понимал юный комсомолец Рольтынват, сын чукотского народа, богатырское дело Ленина. Он ждал от меня подтверждения этой легенды, рожденной на советской Чукотке. И я подтвердил ее.
Мы дневали у костра, разожженного из деревянного ящика, прихваченного заботливым Атыком. Горячий чай, пахнущий дымом, обжигал язык. Глотали кусочки мороженого и твердого, как лед, масла.
Атык торопил каюров.
— Тагам! Тагам! Акальпе!
— Поехали! Поехали! Скорее!
Он любил движение.
Это ему по душе.
Рольтынват, для которого слово Атыка — закон, первым стал расталкивать своих собак. Те лениво вставали, отряхивались, потягивались, выставляя далеко передние лапы.
Не спешил только один Коравья. Он все сидел у костра. У него волчий аппетит и неслыханная жажда.
Придвинув босые ноги к самому костру, Коравья не спеша сушил свои чижи и плекеты. Он будто и не слышал призывов Атыка. В руках Коравьи я вижу эмалированную кружку. Пока чайник не будет пуст, Коравью не отогнать от костра.
И Атык не спорит, он знает, что спор бесполезен. Вывернув свой малахай и рукавицы, Атык тоже просушивает их у огня. Вслед за каюрами я повторяю все их движения. Как приятно потом надеть теплые рукавицы, теплый малахай.
Ящик быстро прогорел. Пеплом покрылись угольки. Заторопился и Коравья.
Теперь все каюры готовы в путь. Нарты выстроились в колонну. С передней Атык кричит на весь караван:
— Тагам!
Поехали!
Слышится скрип полозьев. Дорога тверда. Атык доволен и что-то мурлычет себе под нос.
Он ласково окликает своих собак, подбадривает их. Впереди еще долгий, долгий путь.
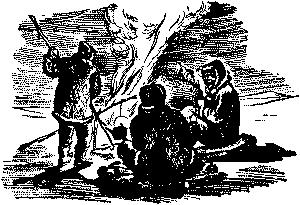
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК